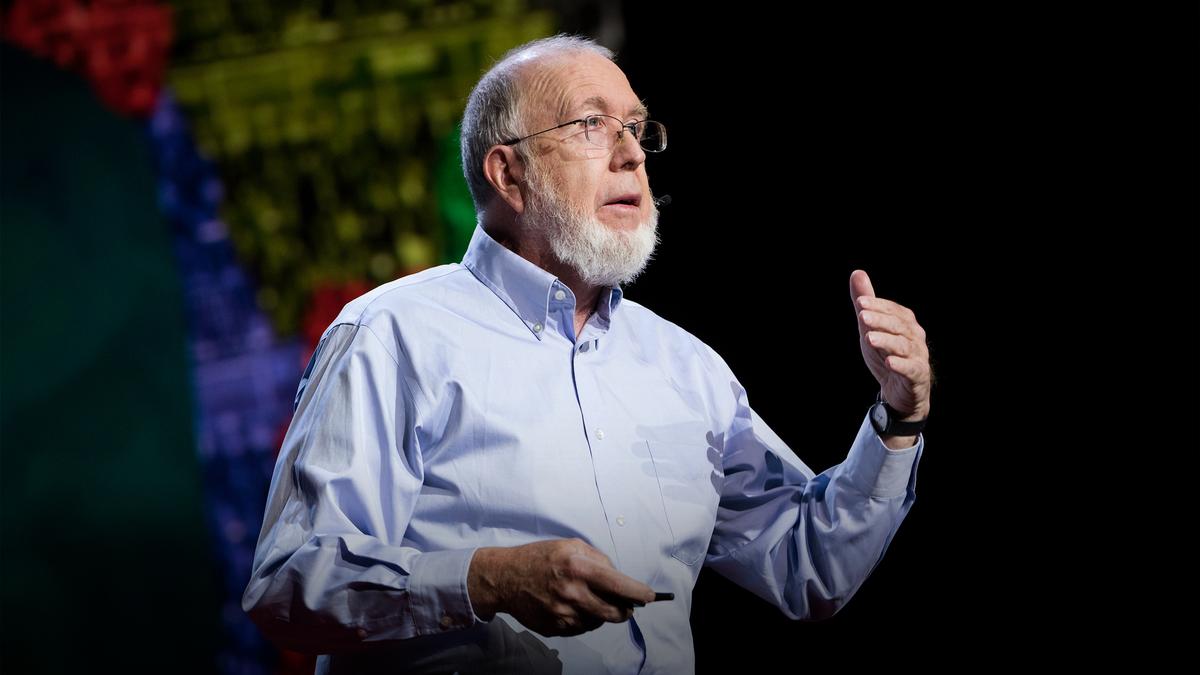Мы не единственные существа на планете, которые способны приручать других. Есть муравьи, которые разводят и ухаживают за тлей, чтобы получать от них сахарную росу. Но мы — единственные, кто приручил более одного вида. На протяжении долгого времени люди одомашнили собак, кошек, коров, лошадей, кур, уток, овец, коз, верблюдов, свиней, морских свинок, кроликов и многих других. С помощью селекции мы изменили гены так, чтобы их поведение соответствовало нашему. Например, мы изменили генетический код дикой собаки так, чтобы она охраняла овец. А дикий крупный рогатый скот приручили так, чтобы его можно было доить в обмен на еду. В каждом случае одомашнивания мы изменяем генетику путем продуманной селекции с течением времени, с помощью выявления и отбора признаков. В самом деле, домашняя собака и дойная корова стали одними из самых ранних человеческих изобретений. На каждом этапе процесса наши предки представляли себе лучшую версию того, что у них было, а затем воплощали ее в жизнь. Одомашнивание — это по большей части акт воображения.
Одной из главных особенностей одомашненных животных является их меньшая агрессивность по сравнению с дикими. Прирученные собаки, кошки, крупный рогатый скот и козы гораздо терпимее к окружающим и более социальны, чем их дикие собратья. Именно благодаря этой приобретенной дружелюбности мы можем работать с ними в тесном контакте. Кроме того, одомашнивание приводит к морфологическим изменениям в черепе взрослых особей. Одомашненные виды становятся больше похожи на молодых особей диких собратьев: с большими широкими глазами, меньшими зубами, более плоскими круглыми мордами и более тонкими костями. Прирученные собаки похожи на щенков волка, а одомашненные кошки — на детенышей льва.
Такое сохранение подростковых черт во взрослом возрасте называется неотенией и считается отличительной чертой одомашнивания. Снижение некоторых видов агрессии также является одной из форм неотении. Повадки прирученных животных похожи на поведение молодняка: больше доверия к незнакомцам, меньше враждебной агрессии в ответ на угрозы, меньше жестокости в групповой борьбе.
В 1950-х годах российский генетик Дмитрий Беляев начал разводить диких серебристых лисиц в неволе, отбирая самых дружелюбных из каждого поколения для последующей селекции. В каждом поколении менее агрессивных лисиц проявлялись черты, похожие на щенячьи: более круглые и плоские головы, более широкие глаза, висячие уши. В течение 20 поколений он вывел одомашненных лисиц.
Более поздний анализ геномов этих животных, проведенный в 2018 году, показал наличие набора генов, общих с другими одомашненными животными, что говорит о существовании генов «одомашнивания». Некоторые ученые предполагают, что десятки взаимодействующих генов образуют «синдром одомашнивания», который изменяет признаки и поведение в последовательном направлении сразу у многих видов.
Хотя волки были одомашнены и превратились в собак в нескольких регионах мира примерно 15-40 тысяч лет назад, они не были первыми животными, прирученными человеком. Первыми были мы сами: вероятно, Homo sapiens был первым видом, у которого произошел отбор по этим генам. Когда антропологи сравнивают морфологические особенности современных людей с близкими предками, такими как неандертальцы и денисовцы, то обнаруживают неотению. Современный человек похож на юного неандертальца: у него более круглое скуластое лицо, более короткая челюсть с мелкими зубами и тонкие кости. И на самом деле различия между черепом современного человека и неандертальца повторяют различия черепов собаки и ее дикого волчьего предка.
Ген BAZ1B влияет на ряд генов развития и является одним из генных сетей, обнаруженных у одомашненных серебристых лисиц. При редком генетическом заболевании ген BAZ1B дублируется дважды, в результате чего у человека вырастают длинные челюсти и зубы, а также появляется социальная неуклюжесть. При другом редком генетическом заболевании, синдроме Вильямса-Бойрена, тот же ген BAZ1B отсутствует. Это приводит к «эльфийским» чертам, более круглому лицу, короткому подбородку, а также к чрезмерному дружелюбию и доверию к незнакомцам, то есть крайней степени неотении. Набор генов развития, контролируемых BAZ1B, встречается у всех современных людей, но отсутствует у неандертальцев, что позволяет предположить, что наша одомашненность — это результат отбора.
Отличительной особенностью человека является то, что homo sapiens приручил себя сам. Мы — приматы, которые одомашнили сами себя. Антрополог Брайан Хейр назвал эволюцию человека (поздний плейстоцен) «выживанием самых дружелюбных», утверждая, что в процессе самоодомашнивания мы отдавали предпочтение просоциальности, то есть склонности к дружелюбию, сотрудничеству и сопереживанию. Отбор происходил по признаку наиболее склонных к сотрудничеству, наименее агрессивных и задиристых. Это доверие к другим привело к большему процветанию, которое, в свою очередь, распространило гены неотении и другие черты одомашнивания в популяциях.
Одомашненные виды часто демонстрируют повышенную игривость, продленное подростковое поведение и улучшенные способности к социальному обучению. У людей детство продолжается гораздо дольше, чем почти у всех других животных. Такое долгое детство дает возможность научиться чему-то большему, чем врожденные инстинкты, но в то же время требует больших родительских ресурсов и более тонких социальных связей.
Мы — первые животные, которых одомашнили. Не собаки. Сначала мы одомашнили себя, а потом — собак. Наше приручение — это не только неотения, снижение агрессии и повышение общительности. Мы также изменили другие гены и черты характера.
Гоминиды пользуются огнем уже не менее миллиона лет. Многие животные и все приматы обладают ловкостью рук, чтобы развести костер, но только человек обладает когнитивным вниманием, необходимым для того, чтобы разжечь огонь с нуля и поддерживать его. Костры служат многим целям, включая тепло, свет, защиту от хищников, закаливание острых предметов и контролируемые пожары для выжигания территории. Но главным следствием использования огня стала способность готовить пищу. Приготовление пищи значительно сокращало время, необходимое человеку на добычу, пережевывание и переваривание, высвобождая время для других видов социальной деятельности. Приготовление пищи выполняло для человека роль второго желудка: оно предварительно размягчает трудно перевариваемые ингредиенты, высвобождая больше питательных веществ, которые можно использовать для питания растущего мозга. За многие поколения людей, питавшихся такой едой, это изобретение изменило наши челюсти и зубы, уменьшило кишечник и увеличило мозг. Наше изобретение изменило гены.
Когда мы приручили копытных животных, таких как коровы и овцы, мы стали потреблять их молоко в разных формах. Это молоко было особенно важно для того, чтобы вырастить детей здоровыми взрослыми. Но довольно быстро (по биологическим масштабам времени — 8 000 лет) в районах, где были одомашнены копытные, взрослые приобрели генетическую способность переваривать лактозу. И снова изобретение изменило генетику, расширив возможности. Мы изменили себя элементарным, основополагающим образом.
В книге «Чего хотят технологии», вышедшей в 2010 году, я привел этот аргумент, который, как мне кажется, впервые позволил кому-то предположить, что люди одомашнили сами себя:
Мы не те люди, что вышли когда-то из Африки. Гены эволюционировали вместе с изобретениями. Только за последние 10 000 лет наши гены эволюционировали в 100 раз быстрее, чем в среднем за предыдущие 6 миллионов лет. В этом нет ничего удивительного. Как мы вывели собаку (во всех ее породах) из волков и вывели коров, кукурузу и многое другое из их неузнаваемых предков, мы тоже были одомашнены. Мы одомашнили самих себя. Наши зубы продолжают уменьшаться (из-за приготовления пищи, аналога внешнего желудка), мышцы сокращаются, а волосы исчезают. Технологии одомашнили нас. Так же быстро, как мы переделываем инструменты, мы переделываем себя. Мы эволюционируем вместе с технологиями и поэтому стали глубоко зависимы от них. Если бы все технологии, вплоть до ножа и копья, внезапно исчезли с планеты, наш вид просуществовал бы не более нескольких месяцев. Мы стали симбионтом с технологиями…. Мы одомашнили человечество так же, как одомашнили лошадей. Сама человеческая природа — это податливая культура, которую мы посадили 50 000 лет назад и продолжаем выращивать до сих пор.
Процесс самоодомашнивания — это лишь начало человечности. Мы — приматы, которые приручили сами себя, но еще важнее то, что мы изобрели самих себя. Как контроль над огнем возник благодаря осознанным намерениям, так и корова и кукуруза появились благодаря человеческому разуму. Это такие же изобретения, как плуг и нож. И так же, как одомашненные животные были изобретениями, так и мы изобрели себя. Мы — самоизобретенные люди.
Мы изобрели человечество, так же как кулинарию, язык, чувство справедливости, долга и ответственности. Все это появилось намеренно, из нашего воображения о том, что может быть. В максимально возможной степени все черты, которые мы называем «человеческими», в отличие от «животных» или «природных», — это черты, которые мы создали для себя. Мы сами выбрали характер и создали это существо, под названием человек. В реальном смысле мы коллективно выбрали быть людьми.
Мы изобрели самих себя. Я утверждаю, что это величайшее изобретение. Ни огонь, ни колесо, ни паровая энергия, ни антибиотики, ни искусственный интеллект не являются величайшим изобретением человечества. Величайшее изобретение — это наша человечность.
И мы все еще продолжаем изобретать.
Сообщение Неотения человечества: Кевин Келли о «самоприрученных» людях появились сначала на Идеономика – Умные о главном.